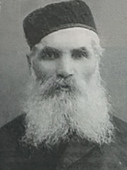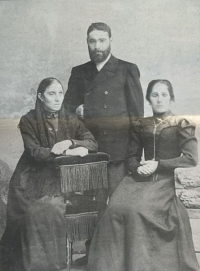 Накануне рождения Рахили Раснер её мать (урождённая Боровик) и отец поехали в Воронеж, где жили родители последнего, – и там появилась на свет Рахиль. Это случилось в 1922 году. Но всю жизнь Рахиль провела в Казани. В этом городе её предки по материнской линии поселились ещё в 1880 году. С тех пор их род – поколение за поколением – жил в этом городе, в том же доме и, что самое интересное, в той же самой квартире, где обосновался с самого начала.
Накануне рождения Рахили Раснер её мать (урождённая Боровик) и отец поехали в Воронеж, где жили родители последнего, – и там появилась на свет Рахиль. Это случилось в 1922 году. Но всю жизнь Рахиль провела в Казани. В этом городе её предки по материнской линии поселились ещё в 1880 году. С тех пор их род – поколение за поколением – жил в этом городе, в том же доме и, что самое интересное, в той же самой квартире, где обосновался с самого начала.
И все эти годы (десятилетия и века) в семье хранили странное поверье, в которое не посвящали детей, но те подмечали некоторые удивительные детали этой тайны. Например, бабушка Софья Владимировна (Сара Вульфовна) была еврейкой, а сестра бабушки, Анюта – русской. К тёте Анюте Рахиль и её родители ходили на русскую Пасху, а дети и семья тёти Анюты, в свою очередь, ходили к ним на еврейскую, как они её называли, Пасху, вернее, Песах. Для ребёнка от такого двойного праздника – двойная радость. А в зрелом возрасте – повод для размышления.
Однажды, когда Рахиль посетила свою двоюродную сестру Еву в Ленинграде, они вспомнили детство и эти "двойные" праздники. Они даже попытались разобраться в сложившейся ситуации, обсудив некую версию, в которую их посвятили – уже в зрелом возрасте – родители.
Во время обсуждения они пришли к выводу, что надо обратиться к Геннадию, сыну тёти Анюты, с просьбой рассказать всё, что он знает об истории их семьи, ибо именно в ней, этой истории, по убеждению Евы и Рахили, и таилась разгадка.
Вскоре пришёл ответ от Геннадия: "Дорогая Евочка. Получил твоё письмо с просьбой рассказать о нашей родословной...". Геннадий изложил свою версию их семьи, вернее то, что рассказали ему родители.
Этот рассказ Ева сразу же переслала Рахили, которая ещё жила в Казани: "Дорогие мои. Посылаю письмо Гены, мне некому оставить эту историю нашей семьи, а для твоих наследников это будет интересно».
Версия дома Геннадия
18 декабря 1983 г.
"Дорогая Евочка!
...Получил твое письмо с просьбой рассказать о нашей родословной. Выполняя твою просьбу, решил сразу написать то, что знаю со слов моей мамы (тёти Анюты), и то, чему я был сам свидетелем и очевидцем. Гарантировать точность и правдивость своего повествования не могу по ряду причин. Много прошло времени. Детские и юношеские впечатления о происходивших событиях могли быть не очень точными. Но рассказы моей мамы, которые я слушал, будучи взрослым, были бесспорно правдивы...
Ваша прабабушка, Мария Моисеевна Боровик, происходила из Литвы, из семьи, где росли шесть дочерей. С замужеством не получалось; отец, Моисей, установил контакты с евреями Поволжья. Посадив дочерей на повозку, он развёз их по городам Поволжья. В пути, погоняя лошадей, кнутом попал в глаз младшей дочери – вашей прабабушке Марии. Она осталась одноглазой на всю жизнь.
Это не помешало ей, однако, в личной жизни – она была выдана замуж тринадцати лет за николаевского солдата, еврея, который возвратился домой после 25 лет царской службы, Боровика Владимира (Вульфа). Когда он женился на Марии Моисеевне, ему, видимо, было порядка 45 лет. От него она родила троих детей: Соню (вашу бабушку), Яшу и Абрашу.
Прожил ваш прадед Боровик недолго. Работал он на волжских пристанях грузчиком, надорвался и скоропостижно умер. Когда дети повзрослели и начали жить самостоятельно, Мария Моисеевна жила одна в Чебоксарском уезде Казанской губернии. Встречалась с русским мужиком Акатовым Иваном Ивановичем.
Иван Иванович (мой дедушка) был деловым мужичком и жил по тем временам зажиточно. Были они не венчаны, так как Мария Моисеевна не хотела принимать русскую веру, а Иван Иванович – еврейскую.
Вскоре у них родилась дочь Анюта, по-еврейски – Хана. Это была моя мама. Бабушка дала ей отчество по первому мужу – Вульфовна, по-русски – Анна Владимировна. Мой дедушка, видимо, не возражал. Когда моей маме исполнилось семь лет, случилось несчастье. В селе, где жили бабушка, дедушка и мама, обокрали церковь.
Наехали власти, начались обыски, и в доме у дедушки, в сенях, нашли престольно-церковный крест. Дедушку осудили на вечную ссылку в Сибирь. Бабушка не оставила его, а вместе с семилетней дочкой ушла с ним в Сибирь.
От Казанской тюрьмы до Алексеевского централа (тюрьма под Иркутском) они шли этапом восемь месяцев. Дедушка — в кандалах, а бабушка с Анютой – вольно. Вскоре их переселили ещё севернее, на Ленские золотые прииски. Дедушка работал старателем по добыче золота, а бабушка – "мамкой" (кухаркой и прачкой) в старательской артели.
Мама моя была нянькой в семье управляющего прииском. Написал дедушка прошение на высочайшее имя, и ему разрешили выехать на вольное поселение к озеру Байкал. Они переселились к Байкалу, в село Лиственничное, у истоков Ангары, в 60 километрах от Иркутска. Дедушка обжился и здесь – завёл хозяйство, и жили они без нужды.
Здесь моя мама встретилась со ссыльным евреем, Левиным Мовшей Мееровичем (по-русски – Михаилом Марковичем), который работал в селе Лиственничном на судоремонтном заводе. Они познакомились, и у них родилась дочь Раиса (Рахиль).
Неизвестно почему, без разрешения властей, мой отец с семьей выехал в Россию, в Казань, где жили тётя Соня, дядя Яша и Абраша. Вскоре по приезде в Казань (1903 г.) родился я – Гдалий Мовшевич Левин.
Казанские власти узнали о незаконном выезде моего отца как ссыльного с семьей и предложили в 24 часа выехать к месту ссылки; мы вновь возвратились к дедушке и бабушке в Сибирь, где и жили до 1913 года.
В 1913-м царская Россия праздновала 300-летие дома Романовых. В честь этого была объявлена царская амнистия, по которой мой отец освобождался от ссылки. В этом же году мы приехали в Казань. Однако и на этот раз отцу не разрешили там проживать – как еврею, не имевшему купеческого звания (гильдии) и не имевшему собственного кустарного производства, ему предложили на выбор: выехать в "черту оседлости", к месту рождения, т. е. в бывшую Виленскую губернию, посёлок Девинишки (ныне Литовская ССР), где условия жизни были крайне бедственными, – либо принять православие и получить вид на жительство в Казани. Отец и мама решили сделать последнее...
В 1914 г. нас крестили – маму, Раю и меня — в казанском Владимирском соборе (который сейчас снесён и на его месте стоит 9-этажный жилой дом). Отцу креститься в Казани не разрешили, и он вынужден был выполнить эту "процедуру", съездив на родину.
Вся эта "процедура" была сведена к присвоению членам нашей семьи новых имен. Отец стал Михаилом Ивановичем, мать – Анной Владимировной, дочь – Раисой Михайловной, сын – Геннадием Михайловичем. Фамилия Левин осталась.
От этого не изменился состав нашей крови и неизменными остались наши человеческие убеждения.
Не знаю, почему мама считала себя русской. Видимо, сказалось влияние её отца – Ивана Ивановича Акатова, который её, единственную дочь, любил и воспитал, а она отвечала ему ещё большей взаимностью. Это сказалось и на том, что она перед смертью просила похоронить её по православному обряду. Что и было сделано.
Почему Рая при получении паспорта записала себя русской? Пожалуй, потому, что единственным документом о её рождении была метрическая выписка из книги рождений Владимирского собора города Казани. Что касается меня, то по национальности я остался евреем. И вот почему.
В начале 1919 года, когда мне ещё не было 16 лет, я стал членом РКСМ и пошёл добровольцем в ряды Красной армии. При постановке на учёт в РКСМ и армию на вопрос о национальности я ответил – «еврей». Ведь от крещения в церкви во мне ни физически, ни морально ничего не изменилось. После демобилизации из армии, при выдаче мне паспорта записали – "еврей". Считаю это правильным – по отцу, а по маме я – русско-еврейский метис. Всё остальное было вынужденным в условиях царского режима.
Тётя Соня и дядя Яша, не понимая этих условий, в которых вынужденно оказалась наша семья, с пренебрежением относились к нам. О подробностях не говорю – неприятно вспоминать. Единственными из родственников, которые с доброй душой относились к нам, были две мои двоюродные сестры – Инна (твоя мама, Евочка) и Хана (Анна), которая жила в Москве. У меня навсегда сохранились к ним и о них самые тёплые чувства любви, как к самым нашим близким и родным людям.
Теперь ещё немного, но весьма существенно о вашей прабабушке Марии Моисеевне и о моём дедушке Иване Ивановиче Акатове. Они дружно прожили не венчано более 30 лет в добрых, заботливых отношениях, если не сказать в любви. Разное вероисповедание не мешало их совместной жизни. Я прожил у них почти десять лет, на берегу Байкала, и был случайным свидетелем некоторых курьёзов. Вот один из них.
Дедушка иногда выпивал. Однажды он открыл полштофа водки, нарезал рыбы, хлеба, а меня послал в лавку (он держал бакалейную лавку), велел отрезать кусок ветчины и принести ему. Я принёс. Он начал кушать, а бабушка ходила по комнате – ворчала и плевалась. Ведь она не ела трефное, а тем более свинину.
После того как дед поел, она выскоблила стол ножом и вымыла горячей водой. Дедушка сидел, курил, молчал и не сердился.
До 1918 года он и бабушка поочередно приезжали к нам в Казань. Тогда поезд от Иркутска шёл почти десять суток. Каждый из них привозил гостинцы, и, в частности, мне и Рае, по сто штук каждому серебряных пятачков, зашитых в маленький чулок.
Характерно: когда приезжал дедушка, то он заставлял меня водить его по церквам и читать церковные молитвы по утрам, перед обедом и вечером, перед сном. Когда же приезжала бабушка, то заставляла ходить с ней в синагогу, а дома, перед обедом, одевала мне шапку и заставляла читать еврейскую молитву.
Бабушка умерла раньше дедушки, и по её наказу он отвёз тело в Иркутск и похоронил на еврейском кладбище, по еврейскому обряду.
Когда умер и где похоронен дедушка, что после него осталось, не знали ни мама, ни тем более я. Последнее письмо от дедушки моя мама получила в 1920-1921 году, он писал обо всём случившемся и о своём одиночестве. Это письмо хранится у меня до сих пор.
Вот какова жизнь и судьба двух не венчанных — мужа и жены...
Изложение не совсем аккуратное — извини, виной старость. Как умел, так и написал...".
Версия дома Рахили
«В нашем доме существовала следующая версия. Моя бабушка влюбилась в русского Иван Ивановича будучи замужем, и когда умер её муж, Иван Иванович стал уже открыто жить с бабушкой. Родители Ивана Ивановича – богатые купцы – были против этого брака. Дело дошло до того, что они лишили его наследства. Бабушка родила Анюту, но даже после этого родители Иван Ивановича поставили своей целью разбить эту семью. Более того, они настроили общественность Чебоксар, где жили молодые, против "жидовки".
В один из дней в дом к молодым были подосланы церковники. Вот здесь и начинается расхождение двух версий.
По нашей версии, когда церковники пришли в дом (Анюте на тот момент было четыре-пять годиков) и стали что-то искать, то девочка поинтересовалась: «Что вы ищете?» Они сказали: "Мы ищем железяки, которые остались после сожжения» (по всей вероятности, имелось в виду всё, что могло уцелеть от сожжения украденной в церкви утвари. – Я. Т.). Анюта, указав на русскую печку, ответила примерно так: "Вон их сколько там!» А в печи были противни. Церковники схватили эти противни и стали утверждать, что мама Анюты сжигала там иконы. Потом её судили. А Иван Иванович вместе с Анютой пошёл за ней в Сибирь. Поговаривали и о том, что Иван Иванович взял всю вину на себя. Никакого церковного креста он не воровал и не прятал. Всё было задумано против их любви и против «этой жидовки».
После получения письма мы решили, что бабушка и дедушка не решались, по-видимому, посвящать Геннадия в подробности этой истории, ибо боялись, что ребёнок начнёт говорить об этом с матерью, и Анюта начнёт винить себя в происшедшем, поскольку когда-то указала на «железки в печи». Но может быть, не рассказывали потому, что считали: дети не должны знать, что их бабушка Мария Моисеевна была осуждена и сослана в Сибирь».
Переселение душ
В России никого из близких уже нет, кто бы хоть на досуге задумался бы над судьбами Марии Моисеевны и Ивана Ивановича, и их потомков.
Судьба Анюты изложена выше, в письме. А вот с сыновьями Марии Моисеевны от первого брака – Яшей и Абрашей Боровиками и их потомками родственная связь прервалась. Боровики разъехались по всей России.
Мотя Эдельман, сын Сары, воевал во время Первой мировой войны и – несмотря на иудейскую веру – был награждён Георгиевским крестом. А второй сын, Мирон, – служил в рядах Советской армии, заведовал Тбилисским окружным госпиталем, дослужился до полковничьего чина и умер в 1951 году. Не так давно умерла и Ева. Покинул этот мир и Геннадий – Гдалий Мовшевич Левин. Из этой некогда большой семьи в Казани осталась только дочь Геннадия. Рахиль же репатриировалась из Казани в Израиль в 1992 году вместе со своей семьей и семейной тайной.
По всей видимости, слова Евы, обращённые к Рахили: «Мне некому оставить эту историю нашей семьи, а твоим наследникам это будет интересно» – были провидческими.
Ян Топоровский