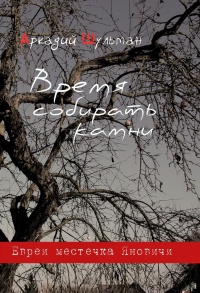В этом году исполняется 70 лет со дня образования Государства Израиль.
В этом году исполняется 70 лет со дня образования Государства Израиль.
Одно из древнейших и одно из самых молодых государств мира.
Ещё один парадокс еврейской истории.
Этому юбилею посвящён рассказ Аркадия Шульмана.
Приближается 70-летие Израиля и один солидный журнал заказал у меня статью о первом президенте этой страны Хаиме Вейцмане. Он родился в местечке Мотоль, это в самом сердце белорусского Полесья, в сорока километрах от Пинска.
Я поехал в Пинск и Мотоль. В местечке (деревне) ещё сохранился дом, в котором жила семья Вейцманов. Правда, стоит он теперь не на родном месте. После войны его перенесли ближе к озеру в Банный переулок, и обрезали почти на треть. (Еврейский обрезанный дом!) При Вейцманах в доме было семь комнат и кухня. По двору гуляли куры, в хлеву стояли коровы, на грядках росли овощи, было несколько яблонь и груш. А рядом дом деда Хаима – Михаэля Череминского, маминого отца. И дети большую часть времени проводили там.
После войны в доме Вейцманов располагалась администрация детского дома. А когда он переехал в другой район, дом выкупил его директор. Ему он был великоват. У Вейцманов всё же родилось 15 детей, (из них 12 выросли, а трое умерли в младенчестве), а у нового хозяина дома, как у всех – двое или трое.
Я убеждён, дом (потолок, пол, стены) помнит до сих пор Вейцманов, хотя прошло уже сто лет, как они уехали отсюда. Их энергетика живёт здесь и будет жить, пока стоит дом. Живёт энергетика всех, кто в нём жил. И тех, кто купил этот дом у Вейцманов, и последнего странного хозяина (директора детдома), который среди бела дня утопился в озере. И голоса этих людей живут здесь, просто мы их не слышим, и мысли живут. И стучатся к нам. Мы этого не понимаем.
Долго-долго я бродил по пустым комнатам мотольского дома Вейцманов. В начале двухтысячных годов минский бизнесмен выкупил дом. Хотел, наверное, сделать на этом деньги, но большого размаха у него не получилось. Правда, он организовал интересный фестиваль. В доме развесил по стенам фотографии, занёс старую кровать и шкаф вейцмановских времён, принял пару туристических групп и на этом поставил точку. Меня впустила в дом соседка – старушка, у которой хранится ключ. Минский хозяин не очень хотел, чтобы я видел разорение, и по телефону сказал, что ключ у председателя сельского совета, он в отъезде, и попасть в дом я не смогу. Я всё же приехал в Мотоль, пошёл в местный музей, мне сказали, что дом Вейцманов к ним не относится, и показать его не могут. Но дали наводку: ключ у соседки. Будет ворчать, надо найти к ней подход, и она откроет двери.
Соседка, согнутая годами в крючок, приняла меня не очень дружелюбно. Но мы сели на крыльцо, поговорили. Её зовут Христя. Я расспрашивал о довоенном Мотоле. Она, наверное, единственная в деревне, кто его помнит. Христя рассказывала о своём детстве, о родителях. Несколько минут я не всё понимал, привыкая к её певучему мотольскому наречию, в котором соседствуют белорусские, украинские и польские слова.
Христя рассказывала про отца и деда, которые были рыбаками, про мотольских евреев, как они зазывали в свои магазинчики. Вспомнила, как ходила в церковь и бабушка Тэкля ей говорила: «Не смотри на них, у нас денег нет». Я евреи подзывали: «Возьми внучке конфету, на повер дам». И бабушка сдавалась. Они заходили в магазин, еврей протягивал Христе конфету и говорил: «Кушай и расти большой. Это тебе подарок». Сколько лет прошло, а этот подарок, копеечный леденец – помнит.
Я не перебивал её, но когда Христя погрузилась в новые воспоминания, спросил:
– Что стало с этими людьми?
– Так война же… – ответила она.
И стала рассказывать, как по главной улице Мотоля гнали евреев на расстрел. Сначала расстреляли мужчин, а на завтра погнали женщин.
Был жаркий день… Они уже знали, куда их ведут.
Потом я выяснил по документам, что это был один из первых массовых расстрелов на территории Беларуси.
Немцы и полицаи прогоняли людей, чтобы те не видели, как евреев ведут на расстрел, а мотольцы прятались в палисадниках, за заборами и смотрели. Бабушка прижимала Христино лицо к своему переднику, а девочка выскользнула из её рук всего на секунду, посмотрела и запомнила на всю жизнь. И если две жизни проживёт – будет помнить.
…Молодая, высокая, красивая женщина… Голды и Ицика Мармеров дочка… Чёрные волосы на плечах. Идёт босиком, из-под ступней в разные стороны разлетается песок. На руках несёт грудного ребёнка. Все кругом плачут, голосят. У неё ни слезинки, лицо, как будто окаменело. И смотрит в одну точку.
Кто-то из полицаев сказал: «Смотри, гордая какая» и хотел её ударить прикладом, а другой остановил:
– Дай ей напоследок со своим Богом поговорить…
Может и не такие слова были, но Христя рассказывала, и вся история вырисовывалась у меня перед глазами.
Потом Христя сказала, жаль, что я не застал её маму. Та прожила больше ста лет и умерла недавно. Она всех евреев Мотоля знала. Даже президента Израиля лично видела.
Я спросил:
– Где она его могла видеть?
– Он приезжал сюда. В начале тридцатых. Меня ещё на свете не было, а мама его видела.
Про то, что Хаим Вейцман с женой приезжал в Пинск и Мотоль я уже слышал. Как-то неуверенно об этом говорили местные краеведы. И вроде брат его Шмуэль Вейцман приезжал с женой, и встречались они в Пинске, а может, и в Мотоль заезжали.
…Я попросил Христю открыть и показать мне дом Вейцманов. Старушка, для поддержания авторитета, пробурчала: «Нашли ключницу», но пошла в дом и принесла большой старинный ключ.
Я понял намёк и протянул ей не слишком крупную белорусскую купюру.
– На конфеты, – сказал, когда мы шли к дому Вейцманов.
…Я долго ходил по дому. Христя, то ли я расположил её к себе разговорами, то ли потому что дал на конфеты, рассказывала, какие экскурсии приезжали, кто на фотографиях, приколотых кнопками к стенам. Вела себя, как заправский экскурсовод.
– Откуда знания? – спросил я.
– Слушаю, что люди говорят. И книжки здесь разные в шкафу – читаю.
Не простая бабуля, – подумал я.
У старой кровати, стоящей у окна, вместо матраца были натянуты кожаные ремни. Наверное, потом сверху клали перину. Я всё сфотографировал и сел на край кровати. Достал блокнот, ручку, стал записывать всё, что увидел – по свежим следам. Христя поняла, что без неё смогу обойтись и сказала:
– Когда уходить будешь, зайдёшь за мной, закрою дверь.
В доме я пробыл больше часа. Довольный увиденным и записанным, попрощался с Христей и пошёл смотреть старинное еврейское кладбище. Думал, найду мацевы (надгробные памятники), поставленные на могилах кого-то из предков Вейцманов или Череминских.
Старинное кладбище в Мотоле не сохранилось. На его месте ещё в пятидесятые годы оставались только обломки мацев, те, что не растащили на фундаменты или другое строительство. Уже в девяностые годы на деньги англичанина, предки которого были из Мотоля, сделали небольшой мемориал. Мацевы находили по всему местечку: на берегу реки, в других местах.
Несмотря на то, что у мамы Хаима родственников было много в Мотоле, ни одной мацевы с фамилией Чемеринский я не нашёл, не говоря уже о Вейцманах. Папа Хаима – Эйзер, был первый из этой фамилии, поселившийся здесь.
Потом я зашёл в магазин, купил «Еврейской» колбасы, которую выпускают на здешнем предприятии (последнее напоминание о мотольских евреях), и отправился на автобусную остановку.
Меня ждал не приятный сюрприз. Автобус, который должен был уходить в 19-00, отправился час назад. Расписание изменили, я не обратил на это внимания. Как говорится, сам виноват. А проходящих автобусов больше не было. Не такой уж большой центр – деревня Мотоль. Зачем гонять по вечерам пустые автобусы?
– Вот тебе раз, – сказал я сам себе.
И тут же вспомнил, что в Мотоле есть «Hotel». Проходя по центральной улице, я видел здание, на фасаде которого было написано это слово. Как-то для полесской глубинки звучит забавно, но учитывая, что здесь проводили фестиваль «Мотальскiя прысмакi» и хотели его сделать чуть ли не всемирного значения, «Hotel» вполне мог быть. На моё очередное счастье-несчастье стоял он на ремонте.
Где я должен был ночевать сентябрьской ночью в деревне, где нет знакомых? Я пошёл к домику Вейцманов. Всё равно стоит пустой. Кровать там есть и крыша над головой тоже.
Снова постучал в дверь к Христе. Она долго не открывала, наверное, уже собиралась спать. Вышла на крыльцо, удивлённо посмотрела на меня и снова своим певучим мотольским говором спросила, чего я хочу?
– Переночевать в доме Вейцманов пустите? – спросил я, и Христя удивилась ещё больше.
Я стал объяснять, что опоздал на автобус. Она слушала-слушала, а потом сказала, чтобы я шёл к ней в дом, мол, на улице не оставит.
Мне было неловко идти ночевать к чужим людям, нарушать их покой, тем более, что пустой дом стоял рядом. Лёг на кровать, сумку под голову и никаких проблем. За столько лет командировок видел и не такой комфорт.
– Ну, иди, если так хочешь, – сказала Христя. – Только с тех пор, как последний хозяин утопился, разные слухи ходят про этот дом.
– Я топиться не пойду, вода уже холодная, – попытался пошутить я.
– Как знаешь, – Христя пошла в дом и вернулась с ключом. – Утром занесёшь.
…Уже начинало темнеть. Я открыл дверь, вошёл в дом. Днём, конечно, почувствовал в нежилом помещении запах сырости. Но он не был таким сильным, каким стал ближе к ночи. Я, на всякий случай, закрыл дверь на ключ, посветил себе телефоном и прошёл через весь дом в небольшую комнату, где стояли шкаф и кровать. Подошёл к окну и стал его открывать. Рамы со скрипом, как будто просили не трогать их, открылись наружу.
…Похолодало. Я поежился и даже пожалел, что не пошёл спать в дом к Христе. Но было поздно менять решение. Достал из сумки свитер, одел его, попрыгал, помахал руками, и жить стало как-то веселее.
Дом стоял в низком месте. Огород заволокло плотным туманом, так что даже в двух метрах ничего не было видно.
Ещё минут десять проветрю комнату, закрою окно и лягу спать, – решил я, уверенный, что кроме мышей беспокоить меня здесь некому.
Присел у открытого окна на край кровати, и как-то мгновенно меня потянуло на сон. День был тяжёлый, я рано проснулся, столько проехал, прошёл – всё объяснимо.
…И вдруг откуда-то из тумана услышал, вернее, почувствовал, чуть уловимый голос.
– А кто это пришёл к нам в дом?
Я даже не понял, это был сон или реальность. Мне казалось, всё происходило наяву, но из-за сильного тумана я не мог различить лица говорящих.
– Что ему здесь надо? Что он ищет у нас?
Я стал пристальнее вглядываться и увидел женское лицо. Мне показалось, что это была женщина из Христиного рассказа, которую гнали на расстрел с ребёнком на руках.
Второе, тоже женское лицо, было мне не знакомо, но эта женщина была гораздо старше.
Я наконец-то понял, это – сон во сне. Иногда бывает такое.
– Приехал в Мотоль, собираюсь писать про Хаима Вейцмана и опоздал на последний автобус, – ответил я женщинам. – Поэтому оказался здесь.
Наступила пауза, а потом та, что постарше спросила:
– Хаим… А почему про него надо писать? Что он такое сделал?
– Он ваш земляк, – стал рассказывать я.
И вдруг увидел, как мраморное лицо женщины стало растягиваться в улыбке. Меня передёрнуло от этого.
– Этот приезжий будет нам рассказывать про Хаима. Он с женой был у нас дома. Мы сидели за столом. Я рассказывала ему про своих детей, про Берточку. Рассказывала, как однажды она съела целую банку вишнёвого варенья, а потом сказала, что это сделал кот. Так было, Берта?
– Так, – ответила женщина помоложе. – Хаим погладил меня по голове и сказал: «Какая красавица. Похожа на мою маму». «Посмотри, – обратился он к жене. – Порода Череминских. Такие же глаза, такие же завитки надо лбом». «Ты помнишь мою маму Рохел-Лею?», – спросил у меня Хаим. Я сказала, что помню, хотя совсем не помнила её и поинтересовалась, как меня учили взрослые, про её здоровье. «Она живёт в Палестине, есть такой город Хайфа. И ты, если захочешь, будешь там когда-нибудь жить. Ты будешь такая же счастливая, как Рохел-Лея. У тебя будет много-много детей. У всех Череминских много детей». Вера тоже погладила меня по голове, потом улыбнулась и дала монетку: «Это особенное место, – сказала она. – Здесь растут красавицы. На них должна любоваться вся Европа».
Хаим и Вера гуляли по Мотолю, все выходили им навстречу: и евреи, и не евреи. Говорили: «Приехал сын Эйзера и Рохел-Леи. Мазал тов!» Этих людей здесь очень уважали. Было за что! А ещё шептались, что Хаим – большой учёный. Его знает сама английская королева.
– Что нового ты можешь о нём написать? – спросила у меня женщина из тумана.
– Он первый президент Израиля, один из создателей государства, где живут евреи со всего мира…
В ответ я услышал долгое молчание. Именно услышал. Приглушенно звенел воздух, а потом, что-то ударилось о землю. Наверное, с дерева упало большое яблоко.
– Израиль – это надежда, понимаешь, мечта, – женщина помоложе говорила очень тихо, медленно выговаривая слова. – С мечтой жить сладко, но жить в мечте нельзя, в неё нельзя войти. Мечта – это не дом. Это как любовь. Она согревает душу…
– Иногда мечта становится реальностью, – ответил я. – И если бы это государство было создано раньше, вы бы там жили, и ваши дети, и ваши внуки…
– Нет, – резко оборвала меня женщина постарше. – Наше место было здесь. Так должно было быть. И здесь наши могилы…
От этого громкого голоса, как мне показалось, прорезавшего ночь, я проснулся…
Меня трясло от холода или от увиденного сна. Я снова пожалел, что не пошёл спать к Христе.
Включил телефон, на всякий случай, посветил им во двор. И без того бледный свет от телефона растворился в тумане. Я всё же успел выглянуть: кругом никого, пустота…
Непросто всё в этом доме, – подумал я, и стал закрывать окно.
Ставни снова издали такой скрип, что я подумал, разбужу всю деревню. Положил на кровать сумку, которая не раз служила мне вместо подушки, и улегся на матрас из кожаных ремней. Он тоже заскрипел, но, слава Богу, кровать подо мной не развалилась.
Я слегка согрелся и снова уснул. То ли рассказы, услышанные за день, превращались в сны, то ли стены старого дома делились со мной воспоминаниями, но я увидел и услышал голоса людей, о которых раньше не имел ни малейшего представления.
Я вообще не запоминаю сны. А здесь готов рассказать их до каждого движения, до каждой секунды.
…Он пришёл, снял соломенную шляпу, вытер рукавом пот со лба и уселся на крыльцо. Крылечко было низкое, всего в одну ступеньку. Я выглянул в окно, чтобы посмотреть на странного гостя. Он был откуда-то из другого времени: я прежде не встречал такой одежды, да и лицо его, как будто со старой фотографии.
Он увидел меня в окне и махнул рукой, мол, выходи, к тебе пришёл. Я подумал, всё очень странно в этом доме. Приходит незнакомый человек, зовёт меня на улицу. И подчиняясь какой-то неведомой силе, я вышел на крыльцо.
– Садись, – по-хозяйски предложил гость. – Разговор у нас будет долгим. Ты же про Хаима хочешь узнать? Я тебе расскажу. Давно, ещё в старые времена, когда слух дошёл, что он стал президентом в своей стране, хотел о нём кому-то рассказать, но все шарахались от меня, как от чумного, а сын прямо сказал: «Помалкивай об этом, не порть мне жизнь».
– Кто ты? – спросил я и почувствовал, что даже голос у меня задрожал.
– Ты меня не бойся. Я – Пётр. Всю жизнь почтальоном здесь проработал, и отец мой почту помогал разносить в Мотоле. В детстве мы дружили с Хаимом.
– Стоп, – остановил я гостя, – сколько тебе лет? Ты знаешь, когда Хаим родился?
– Конечно, знаю, – ответил Пётр и чуть заметно ухмыльнулся. – Мы с ним одногодки. Числа, когда я родился, или он появился на свет, тебе никто не скажет. А если скажут, не верь им. Не запоминали наши родители числа. Вот в документах, правильный или неправильный у него и у меня год рождения стоит – 1874. Такая у нас с ним судьба, что и умерли с ним в один год.
Я ещё раз прервал гостя, мало что понимая из его рассказа.
– Это было когда? – осторожно спросил я, пытаясь понять, кто из нас ненормальный.
– Ты не сошёл с ума, – сказал Пётр, как будто прочитав мои мысли. – И я умер при памяти. Мне было 78 лет от роду. Вроде немало, так что нечего Бога гневить. Меня похоронили здесь. Где родился, там и пригодился. Я за всю жизнь отсюда никуда не уезжал, только, когда с Хаимом плоты гоняли в Данциг. А Хаима далеко отсюда похоронили. Только Хаим сейчас здесь. Все мы сейчас здесь с тобой разговор ведём. Не бойся, ничего плохого мы не сделаем. Ты живых бойся, а покойников бояться не надо.
– Так ты его с детства знал? – ещё раз переспросил я, оборвав рассуждения Петра. – Расскажи, какой он был?
– Я пришёл для этого. Семья у нас была большая. Отец, чтобы на жизнь заработать, подряжался с весны плоты гонять, а почту, мама доставляла. Она хоть и не грамотная была, но ни разу не промахнулась. Да и как промахнешься? Какая там почта была?! Попадала к нам из Варшавы раз в месяц газетка на еврейском. Для нас все новости в ней были свежие. Газета переходила от дома к дому. И маме в каждом давали какую-нибудь монетку. Вот и весь заработок. А когда письмо придёт – это целое событие. Маме давали монетку побольше. За почтой надо было ездить на железнодорожную станцию, это считай двадцать километров.
Похоже, мой собеседник любил поговорить. И если бы я время от времени не останавливал его вопросами, он бы без конца рассказывал про почту, железную дорогу – на любую тему говорил бы и говорил…
– Где вы подружились? Он – еврей, ты – полешук. Он говорил на своём языке, ты – на своём.
– Я на идише умел говорить, у нас в Мотоле считай, все понимали еврейский, – с какой-то обидой ответил Пётр.– А Хаим умел по-нашему мотольскому говорить. Он по-русски плохо говорил тогда. Да и зачем ему русский был?
Я старший у отца, и он брал меня с собой плоты гонять. На работу нас нанимал отец Хаима – Эйзер. Уважаемый человек в Мотоле. Староста в местечке. И семья у него была большая. Но сам он плоты не гонял. Приезжал в Данциг и там встречал нас. А плоты гонял Череминский – дядя Хаима. Большой знаток этого дела.
– У Эйзера много сыновей было, – недоверчиво сказал я. – И Хаим не старший, почему брали его?
– Дядя его любил. Файвел был постарше и покрепче Хаима. Но тот всё подсчитывал: выгодно не выгодно. А Хаим любил мечтать. Плотогоны – они все философы. Вот дядя и увидел в Хаиме родственную душу.
Мы на плотах плыли до самого Данцига, считай до моря. Всякое случалось. И плоты в заторы попадали, и на Висле после дождей страшно было. Главное доплыть до Торпа. А там уже было спокойней. Но я больше любил, когда мы сплавляли по Ясельде и Нёману. Красота, другой в мире нет.
Пётр замолчал и долго сидел так, закрыв глаза. А потом продолжил рассказ:
– Мой батя такую вкусную уху варил! Череминский смеялся и говорил: «Ни одна еврейка с рыбой не справится, как ты».
По вечерам взрослые больше сидели у огня и молчали. Батя иногда говорил Череминскому: «Я тебя выслушаю, и поем с тобой и даже выпью. И соглашусь со всем, что ты говоришь, чтоб у нас отношения не испортились. А сделаю всё равно по-своему. Я ж полешук». Череминский смеялся и отвечал: «И я спорить лишний раз не стану. Хотя мы, евреи, любим поспорить. У нас у каждого своя правда, и каждый в чём-то прав».
Мой батя вспомнил, как однажды поругался с другим человеком. До мордобоя дело дошло, а на плотах, сам понимаешь, страшное это дело, кругом вода. В Данциге пришли к Эйзеру и говорят: «Ты умный, рассуди нас». Эйзер выслушал моего батю и говорит: «Из того, что ты мне рассказал, следует, что ты абсолютно неправ. Теперь я выслушаю другую сторону, и не исключено, что ты всё-таки в чём-то прав».
У нас с Хаимом были свои разговоры.
…Я не хотел прерывать рассказ Петра. Понимал, что это сон и боялся, что проснусь, и он не успеет мне рассказать самое интересное. И всё же я не выдержал и спросил:
– О чём же вы говорили?
– Мы хоть и помогали взрослым, но всё же пацанами были. О чём говорят дети? Разве вспомнишь?
Хаим первый год жил в Пинске. И писал письма домой. Я эти письма относил Эйзеру. Однажды отнёс, он дал мне какую-то монетку, а через несколько дней подзывает и говорит: «Отправь письмо Хаиму обратно». И протягивает конверт, что я принёс, даже не распечатанный. Я спросил: «Эйзер, почему? Что не так?». А он сердито: «Отправь» и точка. Мне же интересно стало. Я Хаима на плоту и спросил: «Почему Эйзер отправил твоё письмо обратно?».
– Маме я пишу на идиш, – ответил Хаим. – А отец считает идиш языком для улицы или базара. Он говорит, что ему письма я должен писать только на лошем койдеш. Ты знаешь, что такое лошем койдеш? Это священный язык – древнееврейский. Я знаю его, но на идише мне писать легче. А отец даже читать не стал письмо и вернул обратно.
Ещё я спрашивал у Хаима про письмо, которое относил его учителю Шолому Соколовскому. Тогда про это письмо весь Мотоль говорил, а Шолом его читал в синагоге. Хаиму было одиннадцать лет, а он написал о том, что все евреи должны вернуться в Сион.
Я спросил у Хаима, почему евреи должны уехать, разве мы с тобой не друзья?
Хаим мне ответил, что мы с тобой были и останемся друзьями, но у каждого народа, как у каждой семьи, должен быть свой дом. Тогда никто не скажет: «Не лезь не в своё дело, это не твоя земля».
– Так и сказал? – не поверил я.
– Ну, может быть, и не так сказал, – ответил Пётр. – Мне уже много лет, я сейчас говорю от себя, а не от того мальчишки.
Я в тот день на огороде копался. Слышу, все говорят: «Хаим с женой идёт, Хаим…» Я вышёл на улицу, гляжу и вправду, Хаим идёт под ручку с очень красивой женщиной. Я ему говорю:
– Хаим, не узнаешь?
Он посмотрел на меня и замер, а потом стал обниматься. Был в чёрном пальто, с белым шарфом, а я только с огорода.
Говорю:
– Я не так одет, ты вымажешься.
А он в ответ:
– Одежда, не главное. Главное, что у нас внутри.
Его жена полезла в сумочку и хотела дать мне монетку. Она всем кого встречала, давала монетку. А Хаим так строго на неё посмотрел, мол, Пётр, это не все, он нам ровня. Она и застыла с открытой сумочкой.
Мы зашли в мой сад, сели на скамейку под яблоней. Хаим вспомнил, что в детстве у него во дворе росли три больших дерева и на них были очень вкусные яблоки.
Говорили о разном, я спросил:
– Ты после меня ещё раз на плотах плавал?
Хаим улыбнулся и сказал:
– Было дело, обманул я Российскую империю.
И увидев недоуменный взгляд жены, продолжил:
– На учёбу в Германию мне деньги собрали, а на паспорт не хватило. Я на плотах добрался до Торна, а там Германия. Вещи в руки и вперёд. Мама боялась за меня. Чуть дожила, пока письмо пришло.
– Часто нарушаешь закон? – в шутку спросил я.
Хаим мог о самых серьёзных делах, как и его отец Эйзер, говорить со смехом:
– Бывает, нарушаю. Правда, не так часто как те, кто у власти.
Я не решался заговорить с ним о том, что давно сидело у меня в голове. А когда он собирался уходить, подумал, что больше не увижу Хаима, и спросил:
– Помнишь, как мы на плотах про письмо Шолому говорили?
Он сразу стал серьёзным:
– Помню.
– Я часто вспоминаю твои слова. Вот до чего додумался. Здесь родились мои деды и прадеды и никуда я отсюда уезжать не собираюсь. А мы всё равно, такие, как и вы – квартиранты на этой земле, то у Польши, то у России угол снимаем…
– Есть только один путь к счастью, – после долгой паузы ответил Хаим. – Трудный. Очень трудный. Но других путей нет. За нас никто ничего не сделает.
Начался дождь, сначала мелкий, моросящий, потом он стал набирать силу и уже крупные капли барабанили по крыше и доставали меня, как я не пытался прижаться к дверям.
– Мне пора, – сказал Пётр. – Ты из-за меня промокнешь. А тебе утром в дорогу. Если понадоблюсь, позови – приду.
И он исчез, как-то мгновенно растворился в воздухе. Остался только дождь, который становился ливнем…
Сквозь сон я слышал какой-то шум и проснулся от него. Дождь барабанил по окнам дома…
То туман, то дождь, – подумал я. – Осень. Слава Богу, что успел закрыть окна, а то натворил бы дел…
Я не ощущал холода, или с началом дождя стало теплее. Мне было не страшно в кромешной темноте чужого дома. И кровать без матраца не казалась жесткой, и сумка вместо подушки вполне устраивала.
– Прижился, – вслух произнёс я. И подумал, только ли мыши под печкой слышат меня?
И всё же, чего вдруг Хаим с женой – европейские люди, учёная элита Англии, решили приехать в Пинск, Мотоль. Ностальгия замучила? Хаим был немного сентиментален, но Вера… Она в Ростов, где жили родители, приезжала всего однажды с тех пор, как уехала учиться. К родственникам приехал? Так ведь никого из близких у Хаима уже не осталось. Все умерли или уехали. Отца давно похоронили. Мама жила в Хайфе, сёстры, братья – в Палестине, Лондоне, Москве. Так, двоюродные, троюродные, с которыми и не переписывался даже.
Когда умер отец Хаима? – спросил я сам себя.
Вышел в соседнюю комнату, где на стенах были развешаны фотографии семьи Вейцманов. Стал подсвечивать телефоном и читать подписи под снимками. Вот и даты жизни Эйзера Вейцмана. Умер в 1911 году. Хаим приезжал в Пинск и Мотоль в 1931 году.
Значит, мог приехать на ёрцайт – двадцатилетнюю годовщину смерти?
Вполне, – ответил я сам себе и дал толчок новым фантазиям.
…В 1926 году Мария и Анна – сёстры Хаима, которые жили тогда в Москве, гостили в Палестине. На Песах все собрались в доме у мамы. Когда-то и в Мотоле, и в Пинске в доме Вейцманов на праздники не было свободного угла. Собирались дети, их друзья, друзья друзей. И сейчас у Рохел-Леи за столом сидели 35 человек: сыновья, дочери, внучки, зятья, невестки… Конечно же, вспомнили Эйзера, который ушёл из жизни 55-летним.
Решили, что в этом году не удастся съездить на его могилу, но через пять лет, на ерцайт, когда исполнится двадцать лет, как Эйзера нет, все соберутся в Пинске.
Хаим, занятый политикой, наукой, так что не было свободного дня, дал слово приехать на могилу отца. Он чувствовал себя в долгу перед ним. Обещал Эйзеру побывать в Пинске вместе с женой, а потом с женой и маленьким сыном, показать внука. Но, то не получалось у него, то Вера не очень хотела ехать в какую-то «дыру».
– На ёрцайт в 1931 году будем, – твёрдо сказал Хаим. – Соберёмся все, кто сможет.
Вера тогда снисходительно посмотрела на мужа. «Он не знает, что будет завтра, а загадывает на пять лет вперёд, – подумала она. – Кто лучше её знает Хаима? Всё равно, будет так, как она скажет».
Но шли годы, а Хаим не забывал о своих словах. Однажды Вера сказала:
– Хочешь ехать в свой штетл – езжай, а мне и в Лондоне не плохо. Мы решили переезжать в Эрец. Наша дорога в Палестину не проходит через Пинск.
Но Хаим так посмотрел на неё, что Вера женским чутьём поняла, эта не обычная ссора, и если она не согласится на поездку, в этот раз дойдёт до развода.
– Моя дорога в Палестину началась из Пинска, – сказал Хаим. – И каждый раз, когда мне надо будет набраться сил, я буду туда возвращаться, хотя бы мысленно. Для кого я всё это делаю? Для всех евреев? Я не знаю таких слов – «для всех». Я знаю конкретно: для себя, тебя, наших детей, моих сестёр, для евреев из Пинска, для таких же, как они…
И всё же Хаим до последнего сомневался: ехать ли ему на осенние праздники в Пинск. Но прошёл очередной съезд Всемирного сионистского конгресса и Хаима после долгих лет президентства не выбрали на эту должность. Разладились отношения с английским правительством, оно стало ограничивать въезд евреев в Палестину. Вейцмана ещё со времен принятия Декларации Бальфура считали «английским человеком». И на нём решили отыграться.
И хотя на людях Хаим не показывал своего настроения, Вера чувствовала, как ему тяжело. Вейцман говорил, что снова займётся наукой, откроет в Лондоне химическую лабораторию. Многое придётся начинать сначала, а ему уже близко к шестидесяти.
Хаим вспоминал слова отца. Эйзера привезли в Мотоль ещё мальчиком, шли годы, и он почти ничего не знал о своих родителях и братьях.
«Значит, у них всё в порядке, – говорил он. – Когда человеку хорошо, ему никто не нужен, а когда не дай Бог что-то не так, он сразу вспоминает про своих родных».
– Поедем, сходим к Эйзеру и начнём новую жизнь, – сказал Хаим.
Вера молча согласилась с ним и кивнула головой.
…Собиралась приехать из Москвы Мария и познакомить родственников с мужем Василием Савицким. Знакома с ним была только Анна. Они с Марией не только сёстры, но и самые близкие подруги. Вместе росли, учились в Швейцарии, и в Палестину вместе ездили. В Москве не проходило недели, чтобы не встречались. То Мария приезжала к Анне, то Анна к Марие, особенно, когда Василий Михайлович бывал в командировках. А в отъездах бывал он часто. Служба такая – инженер «Союзшахтоосушения».
Анна отзывалась о нём, как о добром и честном человеке, говорила, что Василий и Мария очень хорошо друг к другу относятся.
На том пасхальном застолье в Хайфе, кто-то спросил:
– Вы обвенчались в церкви?
Намекая на то, не пришлось ли Марии перейти в православие, чтобы выйти замуж за русского человека.
И вдруг Мария, сторонящаяся всякой политики, ответила, что она живёт в стране, где религия отделена от государства, её муж – атеист, и она – атеистка тоже.
Хаим удивленно посмотрел на сестру и с улыбкой сказал:
– Мария, у нас в семье хватает политиков и революционеров. Будь хоть ты нормальным человеком.
А Анна чтобы перевести разговор на другую тему, рассказала, как Мария и Василий познакомились.
Они гуляли по набережной Москвы-реки, и какой-то беспризорник вырвал у Марии из рук сумочку. Она только вскрикнуть успела. А потом увидела, как высокий худощавый парень за три шага догнал воришку, дал тому подзатыльник, и забрал сумочку.
Беспризорник с криком: «Дядечка не бей» бросился убегать, а Василий Михайлович протянул им сумочку. Он что-то говорил, а Мария смотрела на него и не могла оторвать взгляда. Анна вместо неё сказала: «Спасибо» и увела сестру.
– Нельзя же так смотреть на незнакомого мужчину, – сказала она. – Он подумает Бог знает что.
А назавтра Василий Михайлович ждал Марию возле медпункта, в котором она работала, и проводил домой.
Через неделю Анна узнала об этих отношениях и спросила сестру:
– Это серьёзно?
Мария ничего не ответила, только отвела взгляд.
– Подумай, вы разные люди.
– Ты имеешь виду, что Василий русский?
– И это тоже, – сказала Анна.
– Я уже подумала, – ответила Мария.
– Влюбчивые вы, Вейцманы, – Анна покачала головой, как будто сама не была из этой семьи.
Услышав эту историю, Хаим сказал, что непременно хочет познакомиться с мужем Марии.
Но не пришлось. После поездки в Палестину, Мария несколько раз подавала документы с просьбой, разрешить ей проведать больную маму. И всякий раз слышала в ответ: «Вы уже были однажды». Она решила не дразнить власти и не ходить за разрешением на поездку в Польшу. Кроме того, совсем недавно прошло «Шахтинское дело», и многие специалисты угольной промышленности были обвинены во вредительстве и шпионаже. Василий Михайлович ничего дома не рассказывал, но Мария понимала, что над ним угроза висит тоже.
И Анна в последний момент отказалась от поездки в Пинск. Она твёрдо решила, что как только ей разрешат, уедет в Палестину насовсем. Хаим обещал помочь. Она непременно хотела работать в химической лаборатории и заниматься наукой. Да и врачи советовали – уезжать. «Московский климат губителен для ваших лёгких», – говорили они.
…В Пинск приехали Хаим с Верой и Шмуэль с женой Батией Рубиной.
Они решили побыть день здесь, сходить на могилу к отцу, и день в Мотоле – посмотреть места, связанные с их детством.
После того как Пинск отошёл к Польше Шмуэль не был здесь. Прошло уже десять лет. Эти годы многое изменили в его жизни. Советская власть запретила БУНД, Шмуэль веривший в его идеалы, и отдававший много сил еврейской рабочей партии, вначале был в растерянности. Но потом решил, что новые власти в чём-то правы, надо объединять силы, а не разделяться по национальным квартирам, и примкнул к большевикам. Он был хорошим инженером и организатором производства, его знания стали востребованы. Шмуэль строил заводы в Подольске, Брянске. Занимал солидные должности в «Главметалле», Моснархозе, Институте машиностроения. А потом где-то в высоких кабинетах вспомнили, что Шмуэль был бундовцам, и решили, что его имя и авторитет могут пригодиться новой власти. И даже совсем неплохо, что старший брат Хаим – известный сионист. Два брата – два отношения к жизни, и один за другого не отвечает. Шмуэля назначили заместителем председателя общества, которое занималось выделением земли трудящимся евреям. Он и здесь работал, не жалея сил. Помогал еврейским коммунам на юге Украины. Потом власти решили создать Еврейскую область на Дальнем Востоке. Многие не верили в эту затею. Шмуэль доказывал: «Мы строим новую страну, и у нас всё будет по-новому. Трудящиеся евреи станут хозяевами земли и построят свой национальный дом».
Когда Мария и Анна сказали Шмуэлю, что на двадцатую годовщину смерти отца решили собраться в Пинске, он ответил, что у него много дел и вряд ли он сумеет поехать, кроме того, Пинск – это Польша, и нужно специальное разрешение для поездки. Ему хотелось встретиться с Хаимом. После Манчестера, он не видел брата. Часто вспоминал их беседы. Шмуэль никогда не соглашался с тем, что говорил Хаим, а тот любил пошутить над младшим братом и спрашивал его: «Сколько евреев записалось в революцию?» Шмуэль начинал доказывать, что только соединив национальные и революционные интересы можно чего-то достичь.
Однажды на сионистском конгрессе они встретились втроём: Хаим, Шмуэль и их отец Эйзер. Решался вопрос, который разделил евреев на два лагеря. Английское правительство обещало отдать часть Уганды для заселения евреями. Это было сразу после страшного Кишиневского погрома, где погибли десятки людей, многие лишились крыши над головой. Бездомные и напуганные евреи готовы были сняться с насиженных мест. Но никто в мире их не ждал. И тогда появилась Уганда. Говорили, что это станет промежуточной остановкой на пути в Палестину, и спасёт людей. Но большинство российских евреев проголосовали против. «Только Палестина», – говорили они.
Хаим тоже категорически был против «плана Уганды», а Шмуэль и Эйзер поддержали этот план.
Шмуэль тогда сказал Хаиму: «Ты думаешь о себе, чтобы твои теории воплотились в жизнь, а надо думать о людях. В Швейцарии нет погромов, а ты поживи в Кишинёве или где-нибудь в Гомеле».
Хаим ответил брату, и его слова не были всплеском внезапно нахлынувших чувств. Он давно продумал их: «Какой бы доступной и пригодной ни была любая территория, никогда евреи не смогут её освоить, если это будет не Палестина. Вся наша история сложилась так только потому, что мы никогда не соглашались с изгнанием и никогда не отказывались от Палестины».
И всё же слова Шмуэля запали в душу. Хаим думал о них – должен быть выход из ситуации. Нужно ехать в Россию, побывать в разных городах, встречаться с людьми, узнавать их мнение, помогать организовывать отряды самообороны, чтобы не повторилось нового «Кишинёва».
…Это произошло нежданно-негаданно для Шмуэля. Он только приехал из очередной поездки на Дальний Восток. Его забрали прямо с работы. Шмуэль вначале не понимал, что происходит. Привезли в ОГПУ и заперли в пустой комнате. Через несколько часов зашёл человек в гимнастерке и с порога сказал:
– Мы всё о вас знаем. Рассказывайте, как готовили заговор, – и стал перечислять фамилии его друзей, – Пригожин Берг Соломонович, Рубинштейн Борис Григорьевич, Левин Антон Николаевич… У вас дома бывали Михоэлс и Зускин…
Шмуэль не проронил ни слова в ответ. Первый допрос продолжался больше часа. Потом его увели, и он оказался в комнате без окон, с тусклой лампочкой под самым потолком.
«Это какая-то ошибка, – внушал себе Шмуэль. – Какой заговор? О чём они говорят?»
Его ещё несколько раз вызывали на допросы. А к концу шестого дня, когда Шмуэль попросил, чтобы жена привезла мыло и зубной порошок, сказали: «Дома помоетесь, идите». И никаких объяснений.
Вот тогда, по дороге домой, Шмуэль вспомнил про разговор о Пинске, и почувствовал, что хочет увидеть старшего брата. Он понял, власти пытались его запугать, сделать послушным, для этого арестовали.
Получилось всё наоборот. Не учли в ОГПУ характер Вейцманов. В них от рождения жил дух противоречия.
Шмуэль хотел слышать и видеть старшего брата. Чего бы ему это не стоило, он поедет в Пинск…
…За окнами уже рассвело. Дождь прекратился, и даже проглядывало скромное осеннее солнце. Я подумал, ещё минут десять полежу и встану. И как часто бывает после такого решения, снова уснул.
Мне приснилось, как Хаим и Шмуэль встретились в доме Ицика Мармера, который был женат на их троюродной сестре. Как говорится «седьмая вода на киселе», но всё же Череминские. У Ицика был небольшой магазинчик. Не бог весть какое богатство, но по местечковым меркам – личность известная.
Где я видел его жену Голду? – я чувствовал какое-то беспокойство и обязанность ответить на этот вопрос. И вдруг понял: она приходила с дочкой в сад Вейцманов и спрашивала, почему я здесь?
Хаим и Шмуэль даже внешне были людьми из разных миров. И это бросалось в глаза.
Старший брат и его жена выглядели по-европейски. У Хаима тёмный костюм-тройка, белоснежная сорочка и галстук в крапинку, завязанный толстым узлом. На голове шляпа, в руках тросточка, очки в тонкой, чуть заметной оправе. Вера в костюме из коричневой ткани в клеточку, который подчеркивал её красивую фигуру. На голове шляпка с вуалью, в руках кожаная сумочка-конверт.
Когда Шмуэль с Батией вошли в дом, Вера не смогла или не захотела скрыть удивления. Она несколько секунд пристально смотрела на них, потом повернулась к Хаиму и улыбнулась уголками губ. И Хаим ответил ей такой же улыбкой, что означало: «Принимай людей из другого мира».
Шмуэль был невысокого роста, коренастый, с круглым лицом, большими чёрными глазами и густыми бровями. На нём была рубашка с ремнём на поясе, поверх одет пиджак. В руке держал фуражку, а через руку – перекинут плащ.
– Вот вы какой? – с улыбкой сказала Вера. – Это правда, что вас дома называли «революционером»?
Шмуэль ответил Хаиму и Вере таким же взглядом и такой же улыбкой, обращённой к Батии.
– Ну, если Хаим рассказывал, – сказал Шмуэль, – значит, так и было. Я с братом никогда не спорю.
И оба Вейцмана после этих слов засмеялись и, сделав несколько шагов на встречу, обнялись.
– А мне Шмуэль рассказывал, – улыбнулась Батия, – что даже николаевский полицмейстер назвал Хаима – мечтателем.
– Не верьте классовым врагам, – Вера, умевшая себя вести в компаниях, поддержала шутливый тон беседы. – Хаим не просто мечтатель. Он самый большой мечтатель в мире. Обычный человек может мечтать о новом костюме, о новом доме, а Хаим мечтает о новой стране…
– Я думаю, что революционеры, это тоже мечтатели, только они знают, как мечты воплотить в жизнь, – сказал Шмуэль.
– Но это ещё не всё, – продолжила Вера. – Барон Эдмонт Ротшильд, есть такой богатый еврей, сказал однажды, что Хаим – большевик.
– Не верьте богатым людям, – Шмуэль говорил с улыбкой, и не понятно было, он шутит или говорит серьёзно. – Они свои деньги добыли обманом трудящихся.
– Я ему ответил, что каждый человек, для кого-то большевик, – сказал Хаим.
Третья пара – Ицик Мармер и его жена Голда. Она – прекрасная хозяйка. Он считал себя очень умным человеком. А вместе они не сомневались, что Пинск – это центр всего мира.
– С мечтателями хорошо чай пить и не брать ни одного слова до головы, – уверенно сказал Ицик. – С ними ничего не заработаешь.
– А с революционерами? – спросил Шмуэль.
– С ними только потеряешь, – махнул рукой Ицик и тут же опомнился. – Я, конечно, не всех имел в виду.
– У вас много красивых слов, – заметила Голда. – Но сыт ими не будешь. Так мы пойдём накрывать стол.
И она, вместе с Верой и Батией ушли в другую комнату.
Голда застелила стол белой скатертью, расставила посуду, которую доставала только по праздникам, и которую получила в наследство от мамы. Стала ставить на стол фаршированную рыбу, рубленную селёдку, рубленную печёнку. Потом появилась большая, глубокая тарелка с цимесом, а по её краям были выложены куски подрумяненной курицы…
После каждого блюда Вера говорила:
– Ой, и всё это ты сама? Ой, какая вкуснятина…
Голда делала вид, что равнодушна к похвалам, но душа её цвела, а глаза горели от счастья. Ещё бы, приехали такие люди и говорят слова, которая она никогда не слышала.
– Вера, я понимаю, что вам некогда стоять на кухне, – сказала Голда. – Но вы же помните, как готовила ваша мама…
– Я выросла в Ростове. Есть такой город. Там мало евреев. У нас дома никто даже не говорил на идиш. А мама была из Воронёжа. Тоже не еврейский город. Она вышла замуж в 15 лет. Папа был намного старше, и мама уехала от родителей. Не успела она от них чему-то научиться. На большие праздники папа звал каких-то женщин, платил им деньги, и они делали еврейский стол.
– Чужих женщин звал в свой дом? – с недоверием переспросила Голда и посмотрела на Батию, в поисках хотя бы безмолвной поддержки.
– Киев был, конечно, другим городом, – сказала Батия. – И семья у нас была другой. Я жила с мамой и бабушкой. У них были золотые руки, такие как у тебя Голда. Но у нас богатые люди тоже сами не готовили.
– Кому надо это богатство, если не имеешь от него удовольствия? – спросила Голда. – Вкусно накормить мужа, детей – это же счастье.
Она сама удивилась, что сказала такое. Никогда прежде даже не задумывалась над тем, что такое счастье.
Голда суетилась у стола, рукой разглаживала чуть заметные складки на скатерти, сдвигала блюда с едой то в одну, то в другую сторону. Было заметно, что она нервничает.
– Почему они не идут, надо их позвать к столу, – произнесла она.
– Такие братья, – сказала Батия. – Не виделись столько лет. Не проходило дня, чтобы Шмуэль не вспоминал про Хаима…
– А Хаим про Шмуэля, – добавила Вера. – А встретились и сразу стали спорить.
– Вы хотите, чтобы все евреи собрались в одной стране и нашли общий язык, если родные братья его не могут найти, – сказала Батия, обращаясь к Вере. – Это же сложнее, чем жонглировать сырыми яйцами.
– Они Вейцманы, – уверено сказала Голда и сделала жест рукой, который значил, даже не возражайте мне. – Евреи любят поспорить, но это после рюмки водки. А Эйзеру стакана чая не нужно было. Сразу говорил: «Нет, это надо не так». И что вы думаете? Его слушали. Мог бы ещё жить и жить…
Батия стала доставать из сумки, с которой не расставалась всё это время, подарки. Голде она вручила отрез ситца. По ткани светло-красного цвета ездило много тракторов «Фордзонов», которые усердно вспахивали, надо думать, социалистические поля.
Голда была не избалована подарками и на глазах у неё от радости выступили слёзы.
– Какая красота, – со всхлипом, сказала она.
– Носи на здоровье, – Батия обрадовалась, что угадала с подарком.
Вера тоже рассматривала ткань.
– Не простой подарок, – сказала она и улыбнувшись, добавила. – С революционным смыслом.
– Так что, ситец для флага? – то ли серьёзно, то ли шутя, спросила Голда. – Я уже думала пошить платье Берточке и Шейне. Они скоро будут невестами.
Батия с Верой засмеялись, а Голда смотрела то на одну, то на другую и вытирала слёзы.
Батия снова полезла в сумку и достала подарок для Веры. Это была тарелка, выпущенная к 10-летию Октябрьской революции. Если подарок для Голды она выбрала сама, то за этим специально ездили вместе со Шмуэлем на выставку агитационного фарфора. На тарелке была изображена новостройка, поднимающаяся к небу, и разделившая весь мир на две части: красную и чёрную. И по окружности написаны слова «Путь к социализму!»
Вера долго разглядывала подарок. По её лицу нельзя было понять, он понравился ей или нет. А потом сказала:
– Я пришлю вам подарок по почте. Тоже тарелку. Она будет называться «Путь к Израилю». Специально закажу у художников. С одного края тарелки будет нарисован домик в Мотоле, а с другого – университет, который мы открыли в Иерусалиме.
Батия сразу подумала, что Шмуэль, с его характером, повесит эту тарелку в доме на самом видном месте, неизвестно кто её увидит, что подумают и у него могут быть неприятности. И, заикаясь, она сказала:
– Не надо по почте, а вдруг разобьётся…
От еды, стоявшей на столе, исходил божественный аромат.
– От таких запахов даже кружится голова, – заметила Вера. – Пора за стол.
– А они себе спорят, – возмутилась Голда. – И мой Ицик всюду лезет. Надо везде пять копеек вставить.
– Ох, Голдочка, их надо всюду за руку водить, – сказала Вера. – Все говорят, мой муж – большой учёный, как мне в жизни повезло. А кто ему показал правильную дорогу? Он бы до сих пор был профессором в провинции.
– Как вам это удалось? – спросила Батия. – Шмуэль ничего не рассказывал.
– Когда я приехала учиться в Швейцарию, взяла его репетитором по немецкому языку. Хаим был уже помолвлен с другой, говорят очень красивой девушкой, я её никогда не видела.
– Был помолвлен, и потом не женился? – в глазах Голды читался испуг. – Лучше бы вы мне этого не рассказывали.
– Наверное, наши чувства были сильнее всего остального. Хаим даже поссорился с друзьями.
– Любовь-шмубовь… – передразнила Голда. – Я своих детей отсюда никуда не отпущу.
– Шмуэль часто вспоминает, как жил у вас в Манчестере. Говорит, вы с Хаимом идеальная пара, – сказала Батия.
По глазам Веры было видно, что эти слова приятны ей.
– И я часто вспоминаю это время, – почти нараспев произнесла она. – Начало нашей семейной жизни. Я наивной была, а в хозяйстве вообще ничего не понимала. Однажды к нам пришёл мясник и спросил, что доставить? Я ответила ему: «Конечно, мясо». Все засмеялись. Хаим стал объяснять: «Верочка, надо сказать, какого мяса и сколько фунтов».
– Про мясо, лучше поговорите с Ициком, – уверено сказала Голда. – Когда договаривались про нашу помолвку, я не знала, кто он такой, но слышала – сын Мендела-курачупа. Его так называли, потому что на базаре он лучше всех кур выбирал. Мой Ицик такой же. Курицу выберет, это у-у-у…, пойдёт к шойхету за мясом, так это у-у-у…, – протяжное «у-у-у», сказанное сложенными в трубку губами, выражало у Голды наивысший восторг. – Поедите домой, я вам тоже сделаю подарки. У шойхета зарежем кур, я их заморожу, переложу льдом и упакую. Не испортятся. И варенья дам, в этом году такое вкусное вишнёвое варенье. Берточка вчера съела целую банку.
Берта и Вера подошли к Голде и с двух сторон обняли её. От этой женщины исходила сама доброта.
– Думаете, если я из богатой семьи, и занимаюсь делами мужа, так было всегда? – спросила Вера.
– Я знаю, что вы хороший врач, знаете много языков, играете на фортепиано, – ответила ей Батия.
– Я детский врач и работала в Англии в трущобах. На мне было семь родильных домов и младенческих клиник…
Перегородки между комнатами были тонкие, голоса за стенкой стали громкими. И женщины слышали, о чём в зале говорили мужья.
– Они спорят, как построить счастливое будущее, – сказала Вера. – А я каждый день лечила детей, родителям которых нечем было заплатить. И верила, что дети вырастут здоровыми. Про меня говорили, что я особенный доктор из России. Конечно, появились нужные знакомства. А я знакомила этих людей с Хаимом. Дальше он пошёл сам. Тогда я поняла, что могу позволить себе другую жизнь. Женщина, ты правильно говоришь Голда, должна иметь от жизни удовольствие.
Голда ещё раз окинула хозяйским взглядом стол и, убедившись, что всё в порядке, стала вытирать руки о передник. Она всегда так делала, когда считала работу законченной, и у неё появлялось от этого радостное настроение.
«Что могут эти женщины знать про жизнь? – думала она. – В Москве, Лондоне – одна суета. А жить надо ради семьи».
– Рохел-Лея – самая счастливая женщина, – произнесла Голда слова, которые стали итогом её раздумий. – Она поставила на ноги столько детей. Она видела, как они учатся ходить, как говорят «мама». Что ещё женщине надо?
– А у меня только двое, – сказала Батия. Она снова полезла в сумку и достала фотографии детей. – Хаим и Перла. Я тоже хотела, чтобы у нас было много детей, а Шмуэль рукой махал: сейчас другое время, другое время...
Голда забрала фотографии и стала их рассматривать.
– Так у Вейцманов в каждом поколении по одному Хаиму, – сказала она. – У Эйзера отца так звали, и сын у него – Хаим, у Хаима – племянник Хаим. Ой, сколько Хаимов. Порода будет долго жить.
– А Перлу мы назвали по бабушке, – продолжила Батия. – Только в Москве такие имена не в моде. И Перла называет себя Люсей. А Шмуэль снова говорит: другое время, другое время…
– Какая красивая девочка, – сказала Голда, продолжая разглядывать фотографии. – Дай Бог ей хорошего мужа. Если надумаете, есть очень хороший шадхен (сват). Подберёт достойную пару и недорого возьмёт.
– Время сейчас другое, – Батия ответила Голде словами своего мужа, которые в их семье произносили очень часто.
– Это не время другое, мы стали другими, – Вера взяла у Голды фотографии. – Ровесники моим, чем-то похожи. У меня тоже двое: Бенджамин и Михаэль.
– Михаэль – это же Череминские, – всплеснула руками Голда. – Это же дедушка Хаима. Они всё детство у него в саду играли.
– Я сказала Хаиму – двое детей, хватит. Надо немножко пожить для себя. Только он не понимает, что значит «жить для себя».
– И мой не понимает, – сказала Батия. – Я их первый раз сегодня увидела вместе и сразу почувствовала, головы у них разные, а сердца – одинаковые.
– Как говорит Рохел-Лея: кто бы из моих детей не оказался прав, я всегда буду в выигрыше, – Вера попыталась передать интонацию, с которой говорила мама Хаима. – Если прав окажется Шмуэль, я буду жить у него в Москве, если Хаим – я приеду в Палестину. И она приехала жить в Хайфу. Когда исполнилась мечта Хаима и в Иерусалиме открывали университет, она сидела рядом с нами. Я видела её глаза. Это были глаза самого счастливого человека, – сказала Вера.
– Конечно, мы бы не смогли построить ей двухэтажный дом, мы и сами живём скромно, – Батия говорила, как будто оправдывалась. – Шмуэль никогда за себя не попросит. Только раз, когда его сюда в Пинск не хотели отпускать, он пошёл к Семашко и попросил замолвить слово.
– Кто это Семашко? – спросила Голда. – Наш мотольский? Я не слышала такого.
– Его дед снимал квартиру в доме у деда Шмуэля. Сейчас Семашко в Москве большой человек, – ответила Батия. – Был министр, главный в медицине, сейчас в президиуме сидит.
– Почему Шмуэля не хотели пускать в Пинск? – спросила Вера. – Он же поехал на могилу к отцу…
Батия подошла к ней и почти шепотом сказала:
– Они всех подозревают. Кругом вредители. Шмуэля забирали. Он шесть дней не был дома.
В воздухе повисло молчание, а потом Вера спросила:
– Как Вы там можете жить?
– Только ничего не говори Шмуэлю, – попросила Батия. – Я тебя умоляю. Он говорит, революция не бывает без ошибок.
– Почему эта ваша революция должна обязательно ошибаться на евреях из Мотоля? – спросила Голда. – У Вас же такая семья.
– Когда его забрали, я ни на минуту глаз не сомкнула. – Вспоминала, как мы познакомились. Я была восторженной девчонкой. А он студент Киевского политеха, и главное – революционер. Родители меня упрашивали – не встречайся с ним. Я ни в какую… Шмуэль был под особым надзором, чуть не попал в ссылку… Если б родители знали… Тогда подозревали, сейчас подозревают…
– В России не подозревают только покойников. И то не всех. Или я не права? – Вера посмотрела на Батию и, не дождавшись ответа, добавила. – Так было, и так будет…
– Когда Шмуэля забрали, я подумала, хорошо, что мои родители остались в Киеве, а его мама живёт в Хайфе, – сказала Батия.
– За Рохел-Лею не волнуйтесь, – успокоила Вера. – Хаим всю жизнь помогал и маме, и братьям, и сёстрам. От семьи отрывал, а им помогал.
– Поверьте мне, – сказала Голда. – Я тоже вырастила семеро детей. Душа мамы всегда будет не с тем, кто богаче, и у кого самый хороший дом, а с тем, кому хуже. Она к нему босиком пойдёт по снегу. Потому что мы – Череминские.
А за стеной продолжался оживлённый мужской разговор. И Голда не выдержала.
– Так что, кушать сегодня будет. Или будет сыты их разговорами, – громко и сердито сказала она.
Мужчины услышали слова хозяйки и прошли в соседнюю комнату. Все сели за стол. Во главе, как и положено хозяину дома – Ицик. А Голда присела на краешек стула.
– Садись удобней, – сказала Вера.
– Нет, что вы, – запротестовала Голда. – Надо подать, принести. Люди в доме.
Сделали «лехаим» и, проголодавшись с дороги, дружно стали кушать. Лишь изредка кто-нибудь произносил слова, про самую вкусную еду в мире.
Ицик сиял от счастья: «Пускай знают, кто правильно живёт, – думал он. – А то спорят и спорят. Им ещё учиться у меня надо».
– Ни в Москве, ни в Лондоне вам такого не дадут, ни в одном ресторане, – сказал он. – Только в Пинске, только у Ицика Мармера. Всё своё. Морковка, картошка с огорода, курицу сегодня отнёс к шойхету, рыба с озера…
– А селёдка? – с улыбкой спросила Батия.
– Из моего магазина, – с гордостью ответил Ицик. – Разве так кто-нибудь сделает стол? Только моя Голда. Я когда узнал, что жену будут звать Голда, я сразу согласился. Кому ещё такое золото должно достаться. Или я не заслужил?
Все улыбались и согласно кивали головами. Выпили за хозяйку, потом за хозяина.
Ицик сказал, что скоро надо идти в синагогу, прочитать кадиш (поминальную молитву) по Эйзеру, а потом после минхи (послеобеденной молитвы) пойти на кладбище.
Батия с тревогой посмотрела на мужа. Ей совсем не хотелось, чтобы он шёл в синагогу. Узнают в Москве, и если даже открыто не осудят, то всё равно будут переговаривать… А при случае и припомнят. Голда права, думать надо в первую очередь о детях, а не про счастье всего человечества. Хаим учится. Молодец, выбрал профессию, далёкую от политики, будет орнитологом. Перла – красавица, на неё уже засматриваются… Как на детях отразится эта поездка?
Батия не возражала против поездки в Пинск, но просила Шмуэля не лезть ни в какие споры, быть осторожным.
За столько лет совместной жизни Шмуэль научился читать мысли жены, даже если она не произносила их вслух.
– Хаим старший, прочтёт кадиш, – сказал он, обращаясь к Батии. – А мы побудем в синагоге. Разве атеист не имеет на это права?
Батия вздохнула в ответ и все поняли, что означал этот вздох.
– Вы помните женщину, которая работала у вас дома и помогала Рохел-Лее вести хозяйство? – спросила Голда и, не дождавшись ответа братьев Вейцманов, которые хорошо её помнили, стала рассказывать. – Однажды эта женщина глубоко порезала палец и пошла к фельдшеру. Тот выписал ей большую порцию касторки и при этом сказал: «Что ещё там случится с пальцем неизвестно, но желудок, по крайней мере, будет чистым».
К чему она это рассказала, каждый понял по-своему. Объяснений никто не попросил. Все засмеялись, и застолье завершилось бы на этом, но Ицик не был бы «самым умным», если бы не пошутил над гостями.
– У вас в стране Бога нет, – обратился он к Шмуэлю. – Запретили. Правда, с Богом никто не встретился, не предупредил. – После этого Ицик перевёл взгляд на Хаима, давая понять, что следующие слова обращены к нему. – В еврейской стране всем разрешат ходить в синагогу, или надо будет брать разрешения у начальника?
– С чего ты это взял? – серьёзно, вопросом на вопрос, ответил Хаим.
– Говорят, сионисты в синагогу не ходят, – в очередной раз продемонстрировал свои знания Ицик.
После этих слов его насквозь пронзил укоризненный взгляд Голды. По её понятиям мужчина, не ходивший в синагогу, не был евреем. Как такое её муж мог сказать про уважаемых людей? А Ицик, увидев взгляд жены, тут же пожалел, что затеял этот разговор и срочно хотел загладить свою вину, но не успел.
– Мы построим новую страну, где для всех хватит места: и для тех, кто ходит в синагогу, и для тех, кто проходит мимо неё, для умных и не очень умных, для продавцов и для покупателей, – сказал Хаим. – Это будет еврейская страна, но евреи, и неевреи будут жить у нас по одним и тем же законам.
– Как это? – не понял Ицик.
– Как в Торе написано, – ответил Хаим. – «Один закон для тебя и для чужеземца, живущего с тобой».
– Выйдет человек на площадь и будет кричать: «Я – еврей, я – еврей», а никто на него внимания не обратит, потому что кругом такие же. Вот что такое наша страна, – сказала Вера, как будто страна уже была создана.
– Зачем мне тогда быть евреем? – удивился Ицик. – Если меня даже никто не упрекнёт в этом? И скажите, кто из нас доживёт до того времени?
– Этого я не знаю. И обещать конкретной даты не могу. Знаю только это труд тяжёлый и долгий, – сказал Хаим.
– Хорошо обещать счастье, которое будет через сто лет, – кивнул головой Ицик и многозначительно замолчал. – Никто из нас до того времени не доживёт и не спросит, и некому будет отвечать.
И снова, забыв про взгляды жены, Ицик перешёл на язвительный тон.
– Что вы можете дать людям? – спросил он. – Одни обещания. Так я вам скажу, обещания кормят только тех, кто их обещает.
– Ты хочешь, чтобы твои дети не стеснялись, что они евреи? Чтобы в них не тыкали пальцем? – спросил Хаим.
– Я хочу, чтобы мои дети хорошо жили, чтобы у них были деньги, большой дом, чтобы я за них не переживал и спокойно спал. Или я не имею на это права? – ответил Ицик.
Голда почувствовала, что разговор может закончиться ссорой. Только этого ей не хватало. Полгода ждала родственников и на тебе, за полчаса успеют поссориться. Она слышала от родных, чем заканчивались споры в доме у Эйзера и Рохел-Леи Вейцманов. Братья и сестры потом месяцами не разговаривали друг с другом. И это умная семья? – думала она. – Надо было им заканчивать университеты?
Мир не рухнет, если мы научимся чуточку уступать друг другу, – учила Голда своих детей. И вот Ицика научить этому не смогла, хотя говорила тысячу раз.
– Один говорит про счастье евреев, другому этого мало, он говорит про счастье всего человечества. Покажите мне, куда вы спрятали счастливых людей? – допытывался Ицик.
– Мы даём людям землю, – вступил в разговор Шмуэль. – Живите, работайте. Каждый получает своё. Что ещё человеку надо?
– Человеку надо ещё немножечко чужого, – спокойно, как ответ на давно решённый вопрос, сказал Ицик.
Хаим засмеялся, а Шмуэль махнул рукой, мол, зачем объяснять, если тебя не понимают.
Ицика этот жест ещё больше раззадорил, он поднялся со стула и подошёл к Шмуэлю:
– Вы зовёте евреев к новой жизни. Они вам верят? Вы уходите, а бедный еврей спрашивает у своей жены: «Роза, меня арестуют завтра или нет?».
После этих слов Батия снова тяжело вздохнула, а Голда буквально выстрелила взглядом в мужа. Но Ицик, так завелся, что не обратил на неё ни какого внимания.
– Вы уходите, бедный еврей крутит пальцем у виска и говорит жене: «Роза, ер а мишугинер (сумасшедший), – эти слова предназначались Хаиму. – Он хочет всех евреев вывести в Палестину. Новый барон Гирш, тот хотел вывести в Аргентину, этот в Палестину».
– Оказывается, Шмуэль, мы говорим в пустоту, – сказал Хаим. – Я зову в Палестину, строить своё государство – Ицику это не надо. Ты говоришь, я дам землю – работай. Ицик не понимает тебя.
– Куда я должен ехать? – спросил Ицик. – И зачем? На ближний восток… На дальний… У меня всё есть. И каждая собака знает, кто такой Ицик Мармер. Я живу в своём доме.
– Ицик, мы не собираемся никого насильно вывозить в Палестину. Новое государство будут строить только те, у кого душа лежит к этому, кто понимает, что его место там и нигде больше, – сказал Хаим.
– Вы создаете приют для бездомных евреев, – с усмешкой продолжил Ицик. – Хаим, ты же можешь быть очень богатым человеком. Купить за раз весь Пинск и Мотоль в придачу. Зачем тебе этот надо?
Ицик ходил по дому и показывал на часы, сервант, люстру.
– Этот всё моё! Мой дом! – он сказал так, что после этих слов надо было ставить не один, а десять восклицательных знаков. – Магазин – тоже мой. И товар в нём – мой. Я могу принять гостей. И мне есть, что поставить на стол. И я только в хедере учился, по заграницам не ездил, и у меня не было богатого папы. Но я сам не промах…
– Ицик, ты вцепился двумя руками в свой магазинчик, и кроме него белого света не видишь, – сказал Шмуэль.
– Хорошо, я вцепился, но у меня есть во что вцепиться, – ответил Ицик. – А что есть у вас?
– У меня есть целая страна, которая строит новую жизнь, – сказал Шмуэль. – Я верю в то, что делаю.
– А у меня будет целая страна, которая тоже будет строить новую жизнь, – в тон ему повторил Хаим.
– Два родных брата Вейцмана, и у каждого по своей стране. Богатые вы люди, – с нескрываемой иронией сказал Ицик. – И куда только бедному Мармеру деться?
– Ицик, заметьте, мы даже не спорим с тобой? – с такой же иронией ответил Шмуэль.
– Вы не спорите со мной, потому что считаете меня ниже себя ростом. Конечно, один придумал ацетон, порох, ещё какую-то трасцу, второй построил заводы. А кто Ицик? Простой еврей, торгует в магазине селёдкой. Но мой магазин, это и есть моя страна, и я её уже построил. И если бы каждый еврей имел по магазину, не надо было бы ничего больше, – и хотя последнее предложение Ицик сказал в шутливом тоне, восприняли его серьёзно.
– Не все же евреи торгуют? – возразил Шмуэль.
– Есть, которые гоняют плоты, рубят лес. Но все они хотят иметь если не магазин, то хотя бы лавку, – уверено заявил Ицик.
– Мы дадим людям землю. Поможем встать на ноги, – сказал Шмуэль. – Дети этих евреев забудут про магазины.
– Им напомнят, – уверенно ответил Ицик. – Выйди на улицу и спроси. Тебе ответят: евреи – руками работать не хотят. Они – торгаши, и дети торгашей.
– Среди нас много тех, кто торгует, – медленно произнёс Хаим. – Так сложилась наша жизнь. Но мы ещё и внуки пророков! И об этом надо помнить.
– Хорошо, я буду помнить, – согласился Ицик. – Ты – внук пророка, я – сын торгаша, а ты Шмуэль кто будешь? Приёмный сын русской революции. Что у тебя есть? Гонар революционера. Но тебя же папа выучил не за гонар, а за деньги. А ты за что выучишь своих детей?
– У нас в стране учатся не богатые, а способные.
– Шмуэль, не смеши людей, а то мне от твоих слов плакать хочется.
– А если ты заболеешь, тебя будут бесплатно лечить…
– То, что дается бесплатно, поверь Ицику, потом обходится втридорого. Так что я лучше заранее заплачу.
– Ицик, это будет не сегодня и даже завтра, – сказал Шмуэль. – Но когда-нибудь и национальностей не будет.
– И Ицик будет ходить в церковь, и кушать свинину? – от такого вопроса у Ицика даже вытянулось лицо.
– И церквей не будет…
– Но свинина хоть останется? – спросил Ицик с нескрываемой иронией.
«Эти революционеры оторвались от жизни, они сошли с ума, – думал Ицик. – Если бы Эйзер слышал это... Двадцать лет, как его нет, и какие слова говорит его сын?!»
За столом засмеялись от слов Ицика, смеялся и Шмуэль. А когда смех умолк, он сказал:
– У нас есть от чего смеяться, и есть от чего плакать. Но мы только вначале пути…
Вера не участвовала в разговоре. Она думала о своих сыновьях. Растут умные, здоровые, красивые ребята, но чего-то в жизни им не хватает. И Бенджамин, и Михаэль обрадовались, когда узнали, что Хаим решил уйти из политики, что отец будет рядом с ними, займётся наукой. Они смогут придти к нему, поговорить, получить совет. Им всегда не хватало обычного общения с отцом.
Вера смотрела на Хаима, слушала его и понимала, никуда из политики он не уйдёт. В ней его жизнь. И как только позовут ни секунды не задумываясь, пойдёт, побежит, забудет про науку и про все обиды.
– Да Ицик, тебе лучше жить в Пинске и держаться за свой магазин, – сказал Шмуэль. – Только и здесь скоро наступят перемены.
– Вы же меня не оставите так? – Ицик продолжал разговор в том же ироничном тоне. – Вспомните, как вас принимал Мармер в своём доме и скажите: «Приезжай». А я отвечу: «Хоть на Дальний Восток, хоть на Ближний... Куда угодно… Только со своим магазином».
Все поднялись из-за стола. Шмуэль подошёл к Хаиму и, как будто извиняясь, сказал:
– Мы с тобой всю жизнь спорим. А думаем в принципе об одном и том же, как сделать жить лучше.
Наступила долгая пауза. Даже женщины, убиравшие посуду, пораженные непривычной тишиной, вернулись в комнату.
Хаим обнял Шмуэля за плечи.
– Наши дороги разошлись. Твоя брат, извини за откровенность, не ведёт никуда. Впереди у тебя только тупик.
– А мне ты что скажешь, внук пророка? – спросил Ицик.
– Нас будут уважать, если у нас будет собственная страна. Не магазин, Ицик, а страна. И чтобы не произошло, мы будем в Палестине! Даже если сейчас вы думаете, что это просто слова!
В окно кто-то постучал и сказал: «Пора, пора».
– Слушал бы вас день и ночь, – произнёс Ицик. – Даже закрыл бы магазин. Но пора идти в синагогу.
…И снова кто-то постучал в окно и повторил: «Пора, пора». Я слышал эти слова не во сне, а наяву. Открыл глаза и повернулся к окну. Христя стучала в стекло палочкой, которая помогала ей ходить, и повторяла:
– Пора, пора.
Я поднялся и открыл окно.
Христя сказала:
– И этот автобус пропустишь. Наверное, понравилось у нас?
– Спасибо Христя, – поблагодарил я. – Спасибо Мотоль, спасибо дом Вейцманов. Нигде в другом месте я не увидел бы такие сны, не встретился с этими людьми.
Наскоро умывшись, я взял сумку и пошёл к автобусной остановке…
P.S. Через семь лет после встречи братьев Вейцманов, Шмуэля снова арестовали в Москве. Ему вспомнили всё: и поездку в Пинск, и беседы с братом, и родственников, живущих в Палестине. Обвинили в шпионаже и участии в контрреволюционной террористической организации. Расстреляли 7 марта 1939 года. В 1956 году Военная коллегия Верховного суда СССР полностью оправдала Самуила Евзоровича Вейцмана.
Его сын Хаим Вейцман погиб в 1943 году в боях за Новороссийск на Малой земле.
Судьбу Батии мне не удалось узнать, как не удалось разыскать её и Шмуэля правнучку Екатерину Пантелееву.
Хаим Вейцман через 17 лет после встречи с братом, был избран первым президентом Государства Израиль. Умер 9 ноября 1952 года.
Вера пережила мужа на 14 лет и ушла из жизни в 1966 году. Она была главной хранительницей памяти о муже.
Сейчас в их доме в Реховоте музей и архив первого Президента Израиля.
Сын Хаима и Веры – Михаэль, сражавшийся добровольцем в Военно-воздушных силах Великобритании погиб в бою в феврале 1942 г.
В Пинске я пытался найти могилу Эйзера Вейцмана – отца Хаима и Шмуэля. На месте кладбища построена школа, рядом дорога и всё закатано асфальтом, как и память об этом человеке.
Аркадий ШУЛЬМАН













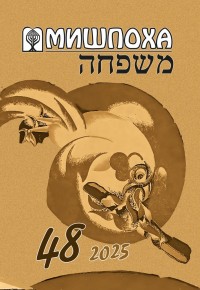


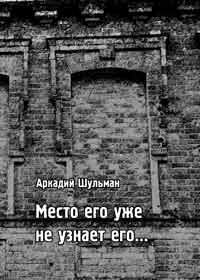

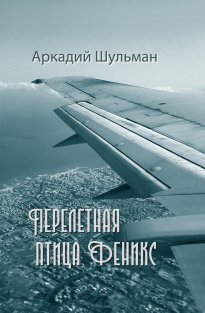
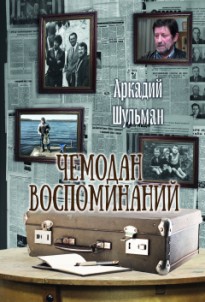




 Постоянный автор нашего журнала Марк Гарбер продолжает составлять «Энциклопедию Рабиновичей». Новая глава его энциклопедии посвящена ветерану пожарной службы полковнику внутренней службы Георгию Семёновичу Рабиновичу.
Постоянный автор нашего журнала Марк Гарбер продолжает составлять «Энциклопедию Рабиновичей». Новая глава его энциклопедии посвящена ветерану пожарной службы полковнику внутренней службы Георгию Семёновичу Рабиновичу. Она так и не научилась писать своё имя — но её сын сделал так, чтобы мир его запомнил.
Она так и не научилась писать своё имя — но её сын сделал так, чтобы мир его запомнил. 23 декабря в Московском еврейском общинном центре впервые состоялась презентация международного еврейского журнала «Мишпоха».
23 декабря в Московском еврейском общинном центре впервые состоялась презентация международного еврейского журнала «Мишпоха». В восьмидесятых годах прошлого века «Джойнт» вернулся на просторы СССР, хотя всем было ясно, что в умах людей, населяющих перестроечную страну, благотворительность «Джойнта» продолжала ассоциироваться (благодаря сталинскому зомбированию) со «шпионской, подрывной и террористической» деятельностью. Сотрудники организации рассказывают, как некая старушка, взяв в библиотеке книгу (новый этап своей деятельности в СССР «Джойнт» начал с поставки в страну еврейских книг) и обнаружив на обложке экслибрис «Джойнта», воскликнула: «Её держать в доме опасно!»
В восьмидесятых годах прошлого века «Джойнт» вернулся на просторы СССР, хотя всем было ясно, что в умах людей, населяющих перестроечную страну, благотворительность «Джойнта» продолжала ассоциироваться (благодаря сталинскому зомбированию) со «шпионской, подрывной и террористической» деятельностью. Сотрудники организации рассказывают, как некая старушка, взяв в библиотеке книгу (новый этап своей деятельности в СССР «Джойнт» начал с поставки в страну еврейских книг) и обнаружив на обложке экслибрис «Джойнта», воскликнула: «Её держать в доме опасно!»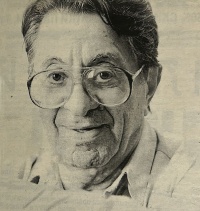 Судьба свела меня с Юзом Герштейном, режиссёром документального и научно-популярного кино, думал возьму у него интервью. А получился «Амаркорд» («Io mi ricordo», «я помню» – с лёгкой руки Фредерико Феллини так стали называть фильмы-исповеди). Правда, вместо киноплёнки я использовал странички блокнота. Но запись вёл поэпизодно. Сам того не желая, у меня получилось «бумажное кино» – амаркорд на бумаге.
Судьба свела меня с Юзом Герштейном, режиссёром документального и научно-популярного кино, думал возьму у него интервью. А получился «Амаркорд» («Io mi ricordo», «я помню» – с лёгкой руки Фредерико Феллини так стали называть фильмы-исповеди). Правда, вместо киноплёнки я использовал странички блокнота. Но запись вёл поэпизодно. Сам того не желая, у меня получилось «бумажное кино» – амаркорд на бумаге. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста Почти два года продолжалась работа над проектом «Дети войны вспоминают…» Записано более сорока интервью. Издана книга. Мы предлагаем Вашему вниманию видеофильм о нашей работе, который так и называется «Дети войны вспоминают…»
Почти два года продолжалась работа над проектом «Дети войны вспоминают…» Записано более сорока интервью. Издана книга. Мы предлагаем Вашему вниманию видеофильм о нашей работе, который так и называется «Дети войны вспоминают…» Предисловие
Предисловие 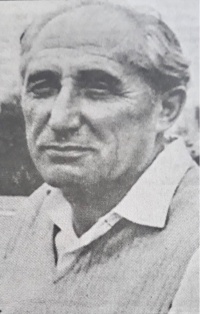 Мы разминулись. Павел Гольдштейн умер в Иерусалиме в марте 1982 года. А я в те годы даже не помышлял о переезде в Израиль. Но придёт время, и мы с Павлом обязательно встретимся. И я возьму у него интервью.
Мы разминулись. Павел Гольдштейн умер в Иерусалиме в марте 1982 года. А я в те годы даже не помышлял о переезде в Израиль. Но придёт время, и мы с Павлом обязательно встретимся. И я возьму у него интервью.